В. Фаворский
О ГРАФИКЕ, КАК ОБ ОСНОВЕ
КНИЖНОГО ИСКУССТВА

В основу настоящей статьи В. Фаворского положен его труд "Опыт работы в области книжного шрифта за период 1928-1953 гг.", написанный в 1954 г. для Отдела новых шрифтов Научно-исследовательского института полиграфического машиностроения.
I. ВСТУПЛЕНИЕ
ЕСЛИ ПОКАЗЫВАЕШЬ кому-нибудь, даже из художников, но не графиков, а живописцев, шрифтовую композицию и говоришь об ее пространственной выразительности и о своеобразном цветовом рельефе черного и белого, то по большей части в ответ высказывается сомнение, есть ли тут какое-либо пространство, и часто утверждают, что все это плоско, так как средства изображения очень ограниченны — черные пятна и линии на белой бумаге.
Несомненно, что средства графики очень ограниченны. Но, во-первых, нет искусства, сколько-то не ограниченного в средствах, и часто ограничение приводит к обогащению этих средств виртуозным использованием их.
В графике есть только черное и белое, но есть линии разной толщины, пятна разной формы, переходы одной формы в другую, контрасты влияния, отношения. Все это дает такую пластичность средствам, что о плоском тут говорить не приходится, и можно, наоборот, поднять вопрос, возможно ли вообще плоское изображение.
Действительно, так как любые самые скромные средства, используемые изображением, пластичны, то, по-видимому, плоское изображение не может быть осуществлено.
Но в связи с вопросом о плоском изображении невольно ставится вопрос о другом методе изображения, пытающемся уничтожить изобразительную плоскость, возможность которого тоже стоит под сомнением, — о методе, стремящемся довести иллюзию до крайней степени, до обмана зрителя. Такое изображение, которое можно назвать иллюзионистическим, по-видимому, возможно только как тенденция, осуществимая при сильном желании зрителя обмануться и при сложной обстановке, как это обычно в панораме или диораме.
Итак, есть попытка утвердить два как бы противоположных метода: плоское изображение и иллюзионистическое, уничтожающее плоскость. Но метод классического искусства всех эпох, искусства разнообразного и сложного, никогда не пользовался ни плоским, ни иллюзионистическим изображением, никогда не стремился уничтожить плоскость, а всегда пользовался изобразительной плоскостью и, строя глубину, создавая планы или строя объем, пользовался ею как основой и пространство выражал, хотя бы и очень сложно, но как рельеф: либо идя от плоскости в глубину, как это делали Тициан, Рембрандт и другие, либо — как объемы на плоскости, как Дюрер. И так поступает все классическое искусство, начиная с вазовой живописи греков и кончая итальянским Ренессансом, Барокко и в какой-то мере некоторыми школами XIX века. Во всех этих произведениях плоскость сохраняется, конечно, по-разному. В древнем восточном, в русской иконописи она очень конкретна, сильно выражена цветом и мало углублена. А, например, в вещах высокого Ренессанса она звучит только как первый план фигурных групп и создается либо касанием фигур, либо их силуэтами. Плоскость выражена всюду по-разному, но всюду входит как основа изобразительного метода и всюду углублена.
Все эти методы изображения, как бы пространственно выразительны они ни были, могут быть названы плоскостными. Они все по-разному сохраняют плоскость как основу изображения — иногда как первый план, иногда как задний. Но всегда такое изображение будет и пространственным, хотя и плоскостным; и возможно утверждать, что плоскость, то есть включение в изобразительный метод плоскости как основы, и дает изображению возможность быть пространственно выразительным.
Иллюзионистическое же изображение, стремясь уничтожить изобразительную плоскость, отбрасывает ее как основу построения пространства и, не будучи в состоянии ее совсем уничтожить, оставляет спор между иллюзией и плоскостью не решенным, спор, который и сам зритель не может решить.
Можно утверждать, таким образом, что иллюзионистическое изображение невозможно. Но возможно ли антиподное ему плоское изображение?
Даже геометрический чертеж, положим, квадрата, круга или другой формы, будет не плоским, поскольку качество черной линии как существенно материальной и белого фона как воздуха сделают изображение предметным и тем самым сколько-то рельефным, а всякое силуэтное изображение, пользующееся разным количеством черного и белого, обязательно нарушит плоскость, но, будучи организовано как плоскостное рельефно-пространственное изображение в меру пластичности своих средств будет пространственно выразительным.
Между прочим, тенденции иллюзионистического и плоскостного изображения как бы ходят в паре; эпоха, стремящаяся в станковой живописи к полной иллюзии, орнамент, например, считает плоским изображением.
Но, по-видимому, ни то, ни другое изображение не может быть осуществлено, потому что или отбрасывает основу изображения — плоскость, или рабски подчиняется плоскости и не признает пластических качеств за ограниченными средствами орнамента и графики.
Возможно только плоскостное изображение, и оно будет всегда, так либо иначе, пространственным.
II. О БУМАЖНОМ ЛИСТЕ
КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В искусстве встречаются разнообразные изобразительные поверхности. Они могут различаться по форме, как, например, керамика, — кувшины, вазы, чашки, тарелки; текстиль — материи для мебели, для стен, для драпировок, для платьев, дающие разнообразные складки: поверхности архитектурные, где мы встречаем колонны, абсиды и прямые стены; и изобразительные поверхности станковой живописи и графики, которые не будут давать складок, не будут вогнутыми или выпуклыми, а будут прямыми плоскостями.
Геометрическая форма изобразительной поверхности будет, конечно, влиять на метод изображения: тот же сюжет мы иначе изобразим на шаре, или на цилиндре, или на вогнутой поверхности, или на ограниченной вертикальной и горизонтальной границей плоскости, и даже иначе на квадратной или на удлиненной вверх, или вытянутой горизонтально поверхности фриза.
Изобразительные поверхности могут еще различаться тем, насколько они выразительны по массе, производят ли они впечатление тяжелых, и их ограничивающие поверхности как бы напряженно сдерживают массу.
Тут будет влиять и скульптурная поведенность поверхностей, но и плоскости тоже могут быть по-разному выразительны в смысле массивности. Например, лист бумаги, кусок холста, деревянная доска или стена, ограниченная карнизами, пилястрами и обломами, будут тоже различны в смысле выражения массивности, и это все будет влиять на изображение, на изобразительный метод.
Представим себе, что мы задумываем какой-либо глубокий, со множеством планов пейзаж на квадратном куске картона толщиной в полсантиметра; и затем допустим, что этот картон начнет утолщаться, будет все толще и толще, и, наконец, наш картон станет как-бы одной стороной куба. Как тогда наш замысел, с его глубиной, будем ли мы на нем настаивать, или массивность куба будет протестовать против такого решения, и нам все изображение придется перестроить и пространство построить более сжатое и не глубокое (но тут опять надо помнить — как бы мы ни сжимали глубину, никогда изображение не может быть просто плоским).
Изображение должно преодолевать массивность изобразительной поверхности, и это возможно в ее центре, там она может быть побеждена пространственностью и глубиной изображения, к краям массивность поверхности побеждает, изображение становится невольно более плоскостным, а на краях глубина как бы совсем гаснет. Это то, что мы в бумаге называем полями, но что живет и в иконной доске и в стене.
Здесь мы встречаемся с принципом рамы, которая невольно сама возникает в споре нашего пространственного изображения с объемностью и массивностью предмета, который мы избрали как изобразительную поверхность. Край доски как бы становится рамой, и такая естественная рама как бы характеризует всю поверхность как массивную, поэтому изображение на такой поверхности будет не очень глубоким, также и в фреске. Но существует и особый вид собственно рамы, когда мы объемно выразительной формой закрываем край изобразительной поверхности и тем самым лишаем ее массивности. Так поступаем мы с холстом в станковой картине.
Если мы бы взяли холст, как он есть, не ограничивая его рамой, как это делается в коврах, и изображали, то материал, как бы тонок он ни был, не допустил бы особенно глубинного изображения. Тут, между прочим, действует и то, что мы не можем забыть о двусторонности холста, и она мешает нам строить глубину.
Но если мы края холста, натянутого на подрамок, закроем рамой, скульптурно выразительной, то мы как бы лишаем холст всякой массивности и прячем другую сторону и создаем, таким образом, изобразительную поверхность, отвлеченную по массе, на которой поэтому возможно наиболее иллюзорное изображение с большой глубиной (но тем не менее в классике плоскостное). Так происходит в станковой картине.
Таким образом, можно определить роль рамы в изобразительном искусстве. Рама, ограничивая изображение, усугубляет внутрь пространственную глубину и создает как бы замкнутый мир, а наружу делает изображение вещью, предметом другого пространства, в станковой картине предметом интерьера, можно сказать, мебелью, живущей наряду со стульями, столами и т. п.
Это — что касается станковой картины. Но этот принцип рамы может действовать и в других обстоятельствах. Можно, например, говорить о книжном пространстве, определяемом шрифтом и его пространственным рельефом; и тогда какая-либо иллюстрация, ограниченная рамой и организованная внутрь, как пространственный мир, наружу, то есть относительно шрифта, станет предметом книжного пространства.
Но об этом подробнее нужно будет сказать, когда будем говорить о книге. Сейчас же остановимся на листе как графической изобразительной поверхности.
Если толстая (хотя бы иконная) доска будет иметь шесть сторон, то лист бумаги для нас только двусторонняя форма; но тем не менее всегда, как бы тонок он ни был, он будет сколько-то массивен, и его края, особенно когда они литые, будут очень сильно выражать массивность края, как и при более или менее толстой бумаге, при золотом обрезе, и меньше при простом и при тонкой бумаге. Все это будет определять поля, и не только для иллюстрации, но и для текста, так как и текст, будучи контрастным в черном и белом, будет пространственным и потребует того, чтобы двусторонность листа забывалась, чтобы мы отвлекались тем самым от предметности листа и его массивности и спокойно могли углубляться в изображение.
Как и с холстом в станковой картине, с листом может быть поступлено так же, когда мы при помощи паспарту лишим его края и тем самым — массивности. Конечно, пластичность листа выявится больше всего в том случае, когда мы имеем дело с эстампом, с каким-нибудь чудесным офортом Рембрандта, когда, держа в руках чудную голландскую бумагу с литым краем и ощущая пальцами ее фактуру, мы глазами и душой погружаемся в изображенный таинственный мир и странствуем в нем, и тем это чудеснее, что в руках у нас просто лист бумаги, напоминающий краями о том, что это двусторонняя тонкая вещь. Это чудо, когда мы держим в руках вещь и углубляемся в изображенный мир, придает созерцанию художественного произведения особенную прелесть. Конечно, играет роль его фактура и цвет листа. То, что цвет часто не отвлеченно белый, а с каким-либо оттенком, это дает цветовым отношениям особую тонкость.
Книжный же лист входит составной частью в книгу, но об этом в другом разделе.
III. О ЦВЕТЕ И О ЧЕРНОМ И БЕЛОМ
В графике значение черного и белого очень большое; шрифт, иллюстрации выполняются черным по белому, и, кроме того, переходы от цвета к цвету совершаются большей частью не разбелкой черного, но моделировкой формы черного и белого, формой пятна, точкой, линией, штриховкой. Относительно всякого цвета можно утверждать, что его зрительно видимая форма большей частью не совпадает с осязательной. То есть плоское пятно, закрашенное каким-либо цветом, часто не видится, как уж очень плоское, а иногда цвет может сильно мешать увидеть форму поверхности, которую он окрашивает.
Цвет только в некоторых случаях четко характеризует поверхность, на которой он лежит; а большей частью он будет восприниматься как цветовая масса, сколько-то рассеивающаяся в воздухе, иногда цвет даже как бы ложится на глаза.
Но цвет пластичен, то есть мы можем по-разному его рассматривать. Мы можем позволить ему быть воздушным, и даже как бы лечь на глаз, а можем, наоборот, дожать его до поверхности, на которую он нанесен.
Некоторые цвета легко дожимаются и плотно лежат на поверхности и, наоборот, трудней представить их как воздушные; например, коричневый, тепло-серый, некоторые из красных, например, кирпично-красный. Другие же, наоборот, очень трудно дожать, как, например, голубой или ярко-синий, или фиолетовый. В данном случае, конечно, влияет атмосфера — это особенно сказывается в туманную погоду. Но ведь цвета и мы живем в воздушном пространстве, и это нужно учитывать.
Итак, цвета имеют разные качества, но большей частью все цвета пластичны, и, когда мы их используем с некоторой изобразительной тенденцией, то тот же цвет может быть и предметным и пространственно-воздушным.
Одно время часто встречалась книжная обложка, деленная пополам вертикально, причем одна половина черная, другая — красная, и цвет к цвету примыкает вплотную, и граница между ними прямая.
Вот и в данном случае сказалась вера художника в плоское изображение, дескать, два пятна разного цвета должны лежать на одной плоскости; но это не может получиться поскольку между цветами качественное различие; и кроме того, всегдашний наш предметно пространственный подход потребует от нас решения — какой цвет лежит впереди, а какой — сзади; какой тут цвет, черный или красный, выражает предмет и какой изображает воздух, пространство.
И вот мы решаем, что черный цвет предметный, а красный — воздух. Тогда черный в силу своей пластичности дает нам свои предметные качества, а красный в силу этого же изобразит нам воздух, атмосферу, с ее характерной чертой рассеиваться в разных планах, как бы пытаясь быть нигде, быть везде.
Но стоит нам присмотреться, как наше мнение меняется, и мы красный берем как предмет, а черный — как пространство, и они изображают новую пару, и опять каждый цвет дает нам новые свои качества для характеристики противоположного решения.
Этот спор можно окончить, только если мы изменим границу между цветами и выразим в ней, что один цвет лежит на другом; это решит отношение цвета к цвету, сделает сверху лежащий предметным, а лежащий внизу — воздухом, пространством.
Между, прочим, можно и уравновесить два цвета; для этого нужно оформить между ними границу так, чтобы то один, то другой как бы находили друг на друга; то один то другой был как бы впереди; это будет волнообразная линия, или зубчатая, или сложней, и она выразит равновесие цветовых пятен (тогда решение будет не плоским, а плоскостным).
Из этого можно вывести, что во всех цветовых композициях, во всех случаях с цветом очень важное значение будет иметь форма цветового пятна и какой фон оно имеет, на каком цвете лежит. И действительно, разве можно представить себе пятно цвета, не лежащее на другом цвете. И вот цвет будет меняться в зависимости от того, какой формы будет пятно, насколько эта форма будет характеризовать пятно как предметное, а не как отверстие в другом цвете, и какое качество поверхности придает форма пятну цвета.
Будет ли это пятно квадратным, или круглым, или треугольным, или еще каким-либо сложным — это будет влиять на отношения цветов. И, например, коричневый фон и голубые пятна, или, наоборот, голубой фон и коричневые пятна дадут совершенно различное в картине, если даже количество того и другого цвета будет более или менее одинаково. И даже если тот же коричневый в одном случае с круглыми пятнами голубого, в другом — с квадратными даст значительное различие в характере восприятия.
В живописи мы можем наблюдать, как мастер иногда, чтобы выявить нужные качества в цвете, придает пятну, изображающему предмет, форму, предмету как бы не свойственную. Так, например, у Гварди белое облако на голубом небе положено так, что оно как бы одним краем уходит под голубой цвет, что делает этот голубой цвет крепче.
Но если в живописи форма пятна имеет значение, то в графическом искусстве — тем более.
Графическое искусство, ограниченное по большей части в своих средствах черным и белым, ставя их в различные отношения друг к другу, — добивается, именно при помощи формы пятен, разных качеств от черного и белого.
Мы как бы можем говорить о квадратном цвете, о круглом и т. д.
При помощи формы пятен мы можем достигнуть тяжелого черного, лежащего выпуклым пятном на белом, черного, уплощенного, характеризующего плоскость, черного, дающего глубину, и черного воздушного. В белом градаций меньше; белое массивное и белое воздушное. Сухого белого, лежащего крепко на поверхности, добиться трудно.
Если на бумагу прольется черная тушь, то лужа будет растекаться и где-то будет заливаться на бумагу, а где-то бумага ее не пустит. Получится картина как бы борьбы суши с морем; мы будем чувствовать тяжесть туши, как тяжесть воды, и сопротивление бумаги, как берегов (рис. 1, А). В силуэте такого пятна местами победит черный, местами — белый цвет; то тот, то другой будут массивны, но такое пятно мы всегда воспримем как лежащее на белом. Черный квадрат или круг могут быть восприняты нами как лежащие на белом и как отверстия; от нашего решения будет зависеть, как мы воспримем цвет, — как дающий нам в квадрате плоско выкрашенную поверхность, а в круге — массивную каплю черного, или воздушный цвет черного провала, по-разному клубящийся в темном отверстии (рис. 1, Б, В).
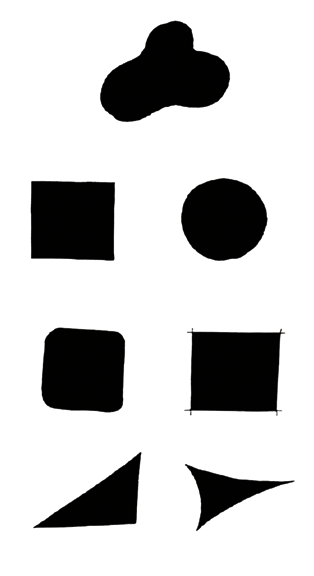
Рис. 1, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
Но стоит нам закруглить углы квадрата или пририсовать к углам тонкие короткие прямые, как будет очень трудно представить их дырками (трудность будет характеризоваться тем, что мы должны мысленно представить себе ключ от этого отверстия, и только как бы всунув его, мы сможем представить пятно как дырку).
Черный квадрат с закругленными углами даст нам массивный цвет. Потому что он моделирует край пятна (рис. 1, Г).
Черный квадрат с черточками на углах даст нам более легкий цвет, лежащий плотно на поверхности и в силу контраста с тонкими линиями даже уходящей в глубину, но не проваливающийся, а дающий как бы пространство, углубляющий поверхность (рис. 1, Д).
Треугольник черный с прямыми границами или тем более с вогнутыми будет восприниматься по преимуществу как отверстия, как черные провалы, и они будут давать материальность и массивность белому, окружающему их (рис. 1, Е, Ж).
Можно создавать разной формы пятна: с одной стороны — массивные, с другой — тонущие как бы в белом и тем самым придающие белому в этом месте массивность.
Решающим моментом будет тот, что на чем лежит.
Если мы возьмем две гравюрные, доски, круглые или овальные, и награвируем на них линии, черно-белую штриховку, то в одном случае белые линии будут подходить к краю пятна, но не прорывать его; в другом — штихель прорежет их насквозь, и мы получим таким образом, в одном случае черные линии на белом, в другом — белые на черном; количество черного в первом случае будет немного больше, но как раз первый пример будет белее, ярче по белому, чем второй, так как белое будет явно лежать наверху черного. Словом, мы достигаем этого малым изменением двух совершенно различных цветовых пятен (рис. 2, А, Б).

Рис. 2, А, Б
И в данном случае можно говорить как бы об изображении теплого и холодного цвета.
Стоит обратить внимание на параллельную штриховку в различных ее видах.
Перед гравюрой и вообще перед графикой часто стоит задача при помощи линий дать плоскость или поверхность. Причем дать ее возможно убедительнее — не как модель, не как чертеж, а как образ. Горизонтально заштрихованные линии дают скорее тон, чем вертикально наштрихованные. Но если мы штрихуем линии, например, подобно тесной волюте, то таким образом мы получаем поверхность почти осязаемую, не распадающуюся на линии и дающую как бы пятно.
Еще опыт: если мы нанесем на белую бумагу перекрещивающиеся линии, как бы решетку, то эта решетка будет очень предметна, а белое вокруг нее и под ней будет совсем не массивным, а легким, воздушным (рис. 2, В).
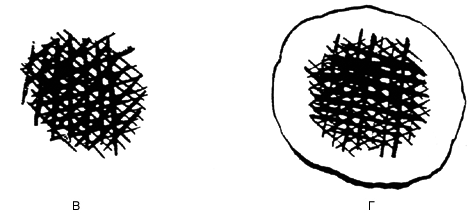
Рис. 2, В, Г
Но если мы очертим вокруг по белому, на некотором расстоянии от решетки, черный контур с небольшим нажимом, тогда белое под решеткой и вокруг станет массивным, а черное пятно штриховое как бы будет углубляться, особенно в центре (рис. 2, Г).
Получится впечатление, что пятно теплого тона положено на холодный цвет, теплый цвет идет в глубину, а холодный ему сопротивляется.
В связи с этим можно обратить внимание на черный контур, который, замыкаясь, даст внутри себя сколько-то массивный белый; и тот же эффект отчасти будет у волютообразной кривой, изгибающейся в разных направлениях (рис. 3).
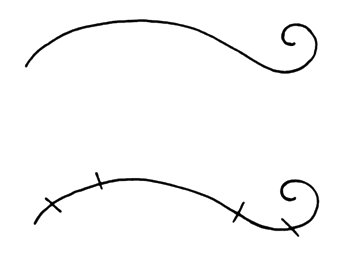
Рис. 3
Там, где линия загибается, она как бы пытается охватить массу, и там белое будет массивно, а на другой стороне — нет. Но стоит ее перечеркнуть маленькими линиями, и уже массивность белого пропадает, линия становится предметной.
Итак, графика и гравюра, ограниченные в средствах всего двумя цветами — изменением формы пятна и сопоставлением и наложением цвета на цвет, — добиваются большого разнообразия и даже богатства отношением черного к белому; изображают и тяжелые, и легкие цвета, и теплые и холодные, и даже передают как бы и голубые, и красные, и разбеленные, и глубокие цвета.
Продолжение следует…
Данная статья была опубликована в сборнике "Искусство книги. Вып. 2. 1956-57". М., "Искусство", 1961.